Разбор журнала - Куклы в народных костюмах 15
Кукла в Осетинском девичьем костюме
Разбор номера от bobcat - Куклы в народных костюмах 15. Кукла в Осетинском девичьем костюме, статья о номере с фото здесь, статья о коллекции здесь.
Юбилейный 15 разбор полетов!
Алания-Осетия пережила несколько этапов христианизации, поэтому некоторые осетинские дзуары восприняли имена христианских святых. Так, повелитель грома и покровитель земледелия Уацилла - святой Илья. Покровитель изобилия Мыкалгабыр (или Мыкалгабыртæ) - это архангелы Михаил и Гавриил. Фæлвæра - покровитель домашнего скота, а именно овец, - объединяет в своем имени святых Флора и Лавра. С учением Христа алан познакомил Святой апостол Андрей Первозванный. Православное христианство стало государственной религией Алании в начале X в. Старинное аланское христианство оказало заметное влияние на традиционную культуру осетин - в частности, на имена популярных святых, календарь и др.

Собственная осетинская религия отличается последовательным единобожием и глубокой древностью. Она продолжает религиозную традицию индоиранцев и сохраняет аналогии со скифской религиозной системой. Осетины в первую очередь в молитве обращаются к единому Богу - Хуыцау. В отличие от осетинских святых, наделенных индивидуальными характеристиками, Хуыцау мыслится как абстрактный образ Творца, обладающего абсолютным совершенством и всемогуществом. Посланники и представители Бога, покровительствующие людям по Его поручению - святые-покровители (дзуары). У осетин существовал культ семи святых ("авд дзуары'), известны святилища, посвященные "семи святым" - например, святилище "Авд дзуары" в селении Галиат. "Семеричный трафарет", характерный еще для скифов, в осетинских молитвах может включать разных святых. Для того же, чтобы не прогневать святого, имя которого не было произнесено, существует специальная молитвенная формула, позволяющая и к нему обратить просьбу о снискании его благодатной помощи. Уастырджи - один из самых почитаемых святых у осетин. Женщины не имеют права произносить его имя, а называют его "Лæгты дзуар" - "Покровитель мужчин".

Важнейшими параметрами вселенной в мифопоэтической модели мира являются пространство и время.
Образы пространства. Пространство осетины представляли состоящим из трех основных зон: верхней (мир Бога и святых), средней (мир людей) и нижней (подземный мир). Для обозначения трех миров использовались различные способы. Так, в осетинской культуре широко распространен образ мирового древа, крона которого символизирует верхний мир, ствол - средний, корни - нижний мир. Например, когда в святом месте к ветвям дерева привязывают белые и красные ленточки, это является символом укрепления связи между человеком и высшими силами.
В обрядовой практике часто используются геометрические символы: например, три круглых и три треугольных пирога, которые также отражают вертикальную структуру пространства. Три ритуальных пирога являются пространственной моделью вселенной, состоящей из трех миров: верхнего, среднего и нижнего.
Цветовые символы помогают понять значение многих фольклорных текстов. Так, в одной осетинской сказке говорится, что если ухватишься за рога белого барана, то окажешься на белом свете, если же за рога черного барана - то в седьмом подземном мире. Белый цвет считался цветом жрецов, красный - воинов, желтый - указывал на тех, кто занят хозяйственной деятельностью. Желтый цвет - цвет зерна, жира и меда считался символом плодородия. Священнослужитель - дзуарылæг исполнял свои обязанности в белом одеянии. В дни святого Тутыра всем членам семьи на правый рукав одежды пришивали красный крестик в качестве оберега.
Время и ритуал. Если в современной культуре время имеет линейный характер, то в традиции оно циклично и чаще всего изображается как круг. Самый простой пример - календарный год, который завершается и вновь открывается Новогодним праздником, знаменующим победу космоса (то есть божественного порядка) над хаосом (беспорядком и злом). Мифопоэтическое сознание исходит из того, что мир к концу каждого цикла приходит в упадок, и для того, чтобы его возродить, нужен ритуал. Конец цикла в обрядах символизирует жертва (бык, баран), она как бы доводит работу хаоса до конца. Жертва расчленяется по определенному правилу, варится, а затем вновь соединяется на праздничном столе, символизируя воссоздание организованного пространства через зоологическую модель мира (голова животного - верхний мир, шея - средний мир, курдюк - нижний мир). Ту же задачу моделирования мира, его воссоздания из хаоса, выполняют три ритуальных пирога и пиво - напиток бессмертия. Старший на праздничном пиршестве произносит молитву, в которой рассказывает о сотворении мира и людей, прославляет высшие силы и просит их о помощи. Человек через причастие, пробуя ритуальную пищу и питье, приобщается к возрожденному миру и новому времени, тем самым в него входят силы для продолжения жизни.

Выбор места для жилья и строительство дома. Осетины тщательно выбирали место для постройки дома. В некоторых районах Осетии существовал такой обычай: там, где предполагалось строительство дома, зарывали в землю глиняный кувшин с налитым в него до половины молоком. Кувшин этот открывали через месяц, и если молоко забродило, то считали, что Покровитель места (Бынатыхицау) согласен и место счастливое.
На новом месте перед началом строительства осетины разжигали костер, чтобы "прогнать" злых духов.
Архитектурный облик осетинского дома в разных районах Осетии мог различаться деталями. В высокогорье преобладали каменные постройки с небольшими окнами и плоскими земляными крышами, на юге строили каменно-деревянные дома с четырехскатными крышами из дранки. Каждое помещение имело свое предназначение. Если дом был двухэтажным, то первый этаж отводился под хлев, а во втором этаже располагали жилые комнаты.
Жилища равнинных осетин коренным образом отличаются от горного жилища. Во время массового переселения на равнину в начале XIX в. осетины строили здесь дома подобно домам русских казаков - сплетенные из хвороста, обмазанные изнутри и с внешней стороны глиной, с двускатной соломенной крышей. В конце XIX в. под влиянием быстрого роста экономики произошло коренное изменение всего облика осетинского равнинного села.

Хадзар по линии очага делился на две части: правую (мужскую) и левую (женскую). В мужской половине хадзара находилась большая часть мебели. У очага стояло почетное кресло хозяина дома, деревянный диван, стулья.
Здесь же, на колышках, вбитых в стену, вверх ножками лежал традиционный трехногий столик ("фынг'). На стенах мужской половины помещения висели мужские бурки, башлыки и оружие, являвшееся главной гордостью хозяина дома.
На женской половине дома была расставлена домашняя утварь - деревянная посуда, рога для напитков, глиняные кувшины и др. У очага стояла люлька для ребенка, ящик для хранения посуды, корыто ("арынг"). Здесь ежедневно готовили пищу, делали сыр и другие продукты длительного хранения, ткали сукно, шили одежду и т. д. К хадзару примыкала кладовая ("къæбиц"), в которой единолично распоряжалась старшая хозяйка ("æфсин").
Женщины без особой необходимости на мужскую половину хадзара не ходили, тем более, что пищу для хозяина дома и гостей подавали младшие мужчины семьи. Не только женщина не имела права свободного входа на мужскую половину, но и мужчина также не переступал мысленную границу, делившую помещение хадзара. Подавая еду, младшие мужчины переступали эту условную границу только позади очага и никогда - впереди него.
В доме было несколько опорных столбов ("цæджындз"), центральный из которых, как правило, был украшен резьбой.
Покровителем хадзара осетины называли Бынатыхицау. Считалось, что Бынатыхицау живет на женской половине в углу, где иногда для него вбивался деревянный колышек или ставился маленький деревянный ящичек в виде пенала, куда клали нитки и кусочек ваты. По представлениям осетин, Бынатыхицау чрезвычайно любит чистоту. Ночью, когда все уснут, он выходит и осматривает дом. И если видит, что женщины перед сном не навели порядок в доме, не прибрали очаг и не подмели пол, то сердится, шумит и беспокоит спящих.
Когда молодому человеку приходило время жениться, он пристраивал к хадзару новое помещение - семейную комнату "уат". Здесь стояла деревянная кровать, устланная войлоком или ковром. Здесь же хранились многочисленные тюфяки, одеяла и подушки. Властелином уата считался Уатыхицау. Жилище в качестве одного из основных мест ведения хозяйства было отдано в почти безраздельное владение женщине. Мужчина чувствовал себя, чуть ли не гостем, несмотря на то, что в силу господствующего положения в семье и обществе восседал в доме на почетной половине. Но, например, находиться днем в семейной комнате считалось для мужчины позором.
Очаг. Очаг и надочажная цепь для осетин были священными символами единства семьи и вечного продолжения рода. Когда семья делилась, и женатые сыновья выстраивали новый дома, они уносили с собой горящие угли из, отчего дома. Давать огонь из одной семьи в другую опасались, так как считалось, что с огнем может уйти счастье и богатство дома.
По традиционным представлениям осетин, покровителем и ковачем надочажной цепи являлся небожитель Сафа.
Молитвой перед очагом осетин начинал и заканчивал свою жизнь. К очагу приносили младенца, чтобы попросить для него благословение на жизнь в доме. Перед очагом хозяин дома молился о счастливой дороге для уезжающих из дома членов семьи. 
К очагу приводили гостя, который с этого момента на все время пребывания под покровительством очага становился членом семьи, и за его оскорбление или убийство хозяева должны были отвечать кровной местью.
С очагом были связаны свадебные и похоронные обряды. К нему подводили невесту, введя ее впервые в дом. К очагу приносили покойника, кладя его головой к очагу и ногами к входной двери.
Очаг почти никогда не устраивался строго в центре помещения и напротив входа, но всегда несколько в стороне. Делалось это, с одной стороны, для того, чтобы ветер из открытой двери не задувал огонь очага, а с другой, - чтобы увеличить площадь хозяйственной половины, где производилась большая часть домашних работ.

Девочки одного возраста с мальчиками не будут, подобно им, свободно бегать по полям и лугам. Обыкновенно они собираются небольшими группами за домом и здесь упражняются почти целый день в национальных танцах. Иногда девочки забудутся и начинают устраивать совместные с мальчиками игры; в таких случаях старшие дают понять им, что не следует играть с мальчиками, и они мало-помалу начинают обособляться.
К 10-12 годам девочки уже не допускают к своей компании мальчиков и с этого времени начинают помогать матери в хозяйстве, обучаются понемногу рукоделию и игре на гармонии под руководством более старших.
К 12-14 годам девушка выступает на публичных танцах. К этому времени она уже знает, какие требования предъявляет к ней обычай. Она теперь ни в коем случае не позволит себе поговорить с незнакомым мужчиной, а если чужой мужчина и обратится к ней, то она не будет ему отвечать. Не побежит она через улицу к соседям, а ее должны сопровождать мать, брат или кто-нибудь из родственников. Она идет по улице чинно, медленно шагая.
Если мужчина переходит улицу, она должна остановиться и пропустить его и только после этого имеет право перейти улицу. Перед старшими женщинами и перед мужчинами даже своего возраста она должна стоять. В присутствии близких родственников девицы сидят, но если родственник пьет воду, чихает или встает, они должны моментально вскочить со своих мест; встают они также и тогда, когда мужчинам принесли поесть. Во время еды старших девицы ни в коем случае не садятся за одним столом с мужчинами.

Если девицы собираются на танцы, которые обычно происходят днем, то их сопровождают молодые мужчины-родственники, хотя и не считается предосудительным, если одновременно их сопровождают и не родственники. Девицы, которые в домашних условиях жизни должны относиться с подобающим уважением к мужчинам вообще, на улице или в дороге пользуются особым почетом. Они здесь окружены мужчинами даже в том случае, когда мужчины старше их летами, причем старшие идут справа, младшие слева.
Во время езды их сопровождают всадники, джигитуя и стреляя вокруг них, по дороге кавалеры покупают им всякие сладости, и горе тому, кто словом или намеком обидит девиц. По улицам девицы порой встречают сидящих стариков, тогда все девицы, поравнявшись с ними, привстают слегка, в знак уважения к старшим, которые, в свою очередь, встают со своих мест и благодарят за внимание, желая всем едущим девицам найти хороших мужей.
Начались танцы. Женщины выстраиваются вдоль стены и одна из них играет на гармонии, мужчины полукругом располагаются напротив них и хлопают в ладоши. Первой выступает одна из самых старших девиц или гостья и ждет кавалера. Мужчина-распорядитель обращается к самому почетному из кавалеров и просит протанцевать. Во время танцев - полное уважение к девицам со стороны всех мужчин без исключения. Можно сказать, смело, что не бывало случая, чтобы кто-нибудь из мужчин оскорбил даже намеком девиц... Правда, каждому осетину хорошо известно, к каким тяжелым последствиям ведет такая опрометчивость. А в распрях между мужчинами, каким сдерживающим элементом являются женщины! Неоднократно бывало, что присутствие женщины предотвращало несчастие: часто можно было услышать фразу: "Благодари Бога, что такая-то присутствовала во время нашей ссоры".

В выборе жениха она не участвует, хотя в последнее время редко с нею не считаются. Первые 4-5 лет, по выходе замуж, она занята с утра до вечера домашним хозяйством и ей, обыкновенно, редко приходится покидать новый дом: свобода хождения ограничена еще больше, чем когда она была девицей... Ей обычаем запрещено говорить со свекром, свекровью и совершеннолетними братьями мужа. Она всячески должна стараться не встречаться со свекром, а при случайной встрече должна остановиться и пропустить его, не осмеливаясь прямо смотреть ему в глаза. Обычай запрещает ей говорить с мужем, когда посторонние смотрят. С другими младшими членами семьи невестка может говорить, но когда близко находится какой-нибудь из старших членов семьи, ей предписано обычаем говорить шепотом, "уайсадгæ" иначе ее назовут беззастенчивой.
Невестка, согласно обычаю, не имеет права произносить имена свекра, свекрови, мужа и всех совершеннолетних членов, а также свою новую фамилию, в противном случае ей скажут, что она непочтительно относится к старшим... Хорошая невестка, в свою очередь, пользуется уважением со стороны старших: всякие эксцессы сдерживаются в их присутствии; не достоин уважения тот из старших, который позволяет себе при невестке говорить непристойные слова даже по отношению к другим. Когда невестка входит в комнату, где сидят старшие члены семьи, то последние в знак уважения должны приподняться. Невестка им ничего не говорит, но молча, легким кивком головы, опускает взор и приостанавливается, как бы прося их сесть; окружающие понимают ее без слов и садятся.
Пробежали годы, и замужняя осетинка захаживает к родственникам, к соседям смелее; появляется на кладбище во время поминок, посещает дома, где есть покойник, а иногда идет с подругами в соседнее селение, в дом покойника, выражает свое соболезнование... Иногда, возвращаясь с похорон, осетинки запаздывают, и их застигает ночь в дороге. Невооруженный осетин на их месте боялся бы быть ограбленным каким-нибудь искателем приключений из осетин или из ингушей, но женщинам это не страшно. Они хорошо знают, что их никто не тронет: кто захочет покрыть свою голову вместо славы позором.

Когда молодой всадник встречается со старыми женщинами, то долг его соскочить с лошади еще до тех пор, пока не поравнялся с ними, пропустить их мимо себя и потом снова сесть и ехать дальше. Перед женщинами пожилыми все мужчины моложе их должны стоять и оказывать всяческие почести, как старшим. Правда, юридически женщина у осетин не имеет никаких прав на все то, что имеется в хозяйстве; при жизни мужа все находится в его власти, а после его смерти переходит к старшему сыну. Фактически старуха мать является полновластной хозяйкой, и редкий сын решится предпринять что-нибудь без ее ведома, без ее совета.
Если в доме после смерти мужа нет взрослых, то старшинство принадлежит ей до тех пор, пока не подрастут сыновья, коим принадлежит все хозяйство...
Отделившиеся дети до самой смерти не теряют связи с семьей, во главе которой осталась мать. Уважающие себя дети постоянно справляются о ее жизни и не позволяют никому обидеть ее, не допускают того, чтобы она голодала или была неприлично одета, обута. Единственный сын при жизни отца может отделиться от него, если отец и сын не сходятся друг с другом. Но никогда не бывало, чтобы мать и сын отделялись. Несомненно, сын не был бы таким ответственным лицом, если бы обычай наделил мать какими-нибудь юридическими правами, и ей при правах жилось бы несравненно хуже среди диких наших предков, у которых сила была правом. Теперь про осетинку можно сказать - в ее бесправии ее право.
Литература:
Традиционная культура осетин. Газданова В.С
Газданова В.С. Золотой дождь. Исследования по традиционной культуре осетин. Владикавказ, 2007

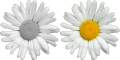



Самое интересное - про нравы и обычаи читать, особенно понравилась часть про женскую долю - как же всё строго, удивительно!
во время последних конфликтов на Северном Кавказе, старухи бросали под танки свои головные платки, пытаясь таким образом, согласно обычаю, остановить кровопролитие, но...
вот поэтому надо изучать культуру)
Э-э-эх, если б все народы сохранили КУЛЬТУРУ, и никто б народам не мешал... Вечная тоска о том, как МОГЛО бы быть, если бы...
Какой удивительный народ-вроде женщина бесправна,а постоянно чувствует себя Женщиной!
Они "как за каменной стеной" - и в общем даже непонятно, нужны ли такие наши современные "права" - работать, и т.п., когда можно быть в своём доме, и не бояться никого в своей стране, потому что женщину никто не обидит!